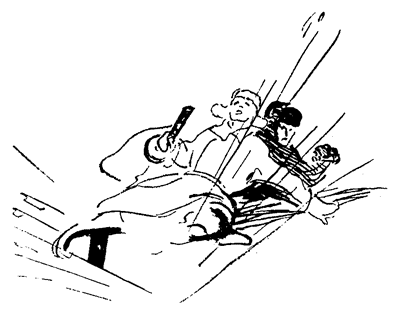
Подлинное его имя — Коля. Николай Хайминов. Но после одного из декабрьских дней сорок первого года все в батальоне стали называть его Петькой.
Вот с чего началось...
Дивизия получила пополнение. Это были худощавые желтолицые ленинградские юноши. Шинели, на них топорщились и у плеч казались надутыми воздухом.
Кто не знает, как трудно приходилось в ту первую блокадную зиму бойцам осажденного Ленинграда, как жестоки были схватки у противотанковых рвов за Колпином и как скуден паек ленинградского фронтовика! Бывалые солдаты терпеливо несли свои воинские труды — рыли окопы, ставили мины, ползли в засады, новенькие же бойцы не сразу, как водится, привыкали к тяготам фронтовой жизни.
Батальон стоял в Усть-Славянке, за несколько километров от переднего края; здесь молодые солдаты учились переползать, метать гранаты, вести стрельбу на ходу.
Декабрьским утром вместе с командиром дивизии Донсковым и комиссаром Чухновым довелось мне приехать в Усть-Славянку.
После вечерних занятий батальон собрался в полуразрушенном доме. Серебристые пятна инея покрывали стены. Ветер задувал в щели колкую снежную пыльцу, и она ложилась на лица бойцов.
Солдаты уселись на пол, по-восточному подобрав под себя ноги; некоторые из бойцов стали дремать, обессиленные голодом и учениями на студеном ветру.
Сняв свою бекешу защитного сукна, отороченную светлым каракулем, и шапку-кубанку с синим, перечеркнутым крест-накрест донцем, комдив подошел ближе к бойцам. Когда он заговорил, все заметили, что десны у него лиловые — Донсков тоже болел цингой.
— Не всеми из вас я доволен, — сухо начал комдив.— Переползая, не прижимаются некоторые к земле, при перебежках огня не ведут. А в строю песен не слышно. Что же это за строй без песни?
— Не очень-то запоешь, не жравши, — буркнул сидевший неподалеку от Донскова солдат с хмурым лицом. Как видно, слова эти произнес он помимо воли и явно сконфузился, ожидая от комдива отповеди, но тот, как ни в чем не бывало, продолжал свою речь:
— Откровенно скажу вам: новые части с Большой земли к нам пока не придут. Так что, истощенные и полуголодные, должны мы держать оборону, тревожить и изматывать противника. Знаю, иные из вас подумывают сейчас: эх, полковник, соловья баснями не кормят! Дал бы ты лучше приказ, чтоб суп варили погуще, а то ведь и сил нет окапываться. Что ж, верно, очень верно. Но мы-то вместе с ленинградцами живем в кольце. Сварить суп погуще для нашей дивизии — значит урвать у города. А кто из вас на это согласен?
Наступило молчание. Его нарушил молоденький, но, как видно, уже побывавший в бою солдат со шрамом на подбородке. Он сказал в раздумье:
Там, в Ленинграде, наши родители и маленькие братишки, сестренки. Как же мы можем быть согласны?
Нотка обиды чувствовалась в этих словах.
— Один совет хочу вам дать, — продолжал между тем Донсков своим мягким, с хрипотцой, голосом.— На войне никогда носа не вешай. Как ни трудно, а ты выпрямись, подтянись. Вы помните картину «Чапаев»... И тогда были тяжелые времена. А как пели бойцы-чапаевцы, как плясали! А какие герои там в боях рождались! Помните ординарца Чапаева Петьку? Он жизни своей не жалел, спасая командира. А могли бы вы поступить, как Петька?
Вряд ли Донсков ждал, что кто-нибудь станет ему отвечать. Каково же было удивление комдива, когда поднялся тот же боец со шрамом на подбородке и сказал спокойно, как о чем-то само собой разумеющемся:
— А Петька у нас есть!
— Как ты сказал? — порывисто встал с места дивизионный комиссар Чухнов. — Вот это ответ. Здорово, а?
И, не стесняясь солдат, Чухнов толкнул комдива в бок.
— Слыхал? Есть Петька!
— Кто же он? — спросил Донсков.
— Звать его Хайминовым Николаем. Мы с ним сюда из госпиталя прибыли. А прежде воевали в другой дивизии... Во время боя осколки так и летели, но Коля заслонил собою комбата. И хотя сам он был ранен, продолжал воевать. А сейчас он на посту стоит.
Комдив приказал вызвать Хайминова. В дом вошел невысокий боец в полушубке и меховой ушанке, под которой светлела полоска бинта. Бережно, как ребенка, придерживал он рукой автомат на груди.
Позванивали доски мерзлого пола — Хайминов печатал шаг. Взор его, напряженный и серьезный, был устремлен на командира дивизии.
Донсков шагнул навстречу Хайминову и, положив ладони вытянутых рук на плечи бойца, стал разглядывать его с нескрываемой любовью.
— Так вот он какой Петька!
И все бойцы пристально смотрели на Колю, будто увидели его впервые.
Короткое прощанье. Донсков распахнул дверь, за которой бушевала метель, причудливо освещаемая бледно-зеленым светом падающей ракеты. Не зажигая фар, мы направились в сторону Колпина, туда, где другие батальоны держали оборону, где одна за другой медленно, лениво поднимались и падали ракеты, где слышались во фронтовой ночи то негромкий, будто из игрушечного ружья, хлопок винтовочного выстрела, то треск короткой автоматной очереди, то урчанье летящего снаряда.
Назавтра Петька стал связным комбата Слесаренко. Батальон перевели в Колпино и поместили в разбитых, напоминавших катакомбы, комнатах каменного здания.
Петька ждет комбата. На печурке, сделанной из металлического бочонка, греется обед Слесаренко. В алюминиевом котелке со вмятиной от осколка — щи, в крышке котелка — ячневая каша. Щи известны в батальоне под названием «березовых», хотя сварены они из капустных отходов, найденных в заброшенном овощехранилище...
Наступают сумерки. В этот час, будто по расписанию, противник начинает обстрел. Петька прислушивается к нудному свисту снарядов. Перелет. Опять перелет. Когда снаряд приближается к земле, он так хрипит, что кажется, будто лопается от злости.
Печь загасла, стало темно, а все же свечу Петька не зажигает. Есть у него в запасе пять плоских свечей в картонных чашечках. Совсем маленькие они — чуть побольше шашечных пешек. Эти свечи надо беречь для комбата. Когда он придет, одну можно будет зажечь...
В полку все зовут комбата «бородой». При любой обстановке, пусть хоть и обстрел идет, он с утра бреется, но усы и бороду оставляет и потом часто расчесывает их прозрачным гребешком. Как-то он сказал: «Запустил бы и ты, Петька, усы» — и засмеялся.
Почему не идет комбат? Быть может, он получает боевую задачу. Скорее бы... Вчера прибегал Романцов, связной комбата-3. Их третий батальон занимает оборону, отбил пять контратак, а кроме того, бойцы снайперят. Романцов, как только вошел, сказал с подковыркой: «А вы-то, Петька, все без дела». Пришлось ответить ему: «Ничего что без дела, зато мы скоро пойдем в наступление». А Романцов не сдавался: «Врешь, это ты придумал, комбат не говорил тебе этого... » И действительно, «борода» не говорил о наступлении. Но все же однажды он заметил будто невзначай: «Нам не дают участка обороны потому, что нас берегут». А для чего берегут? Ясно, для наступления.
Снова разрывы... Сколько же снарядов упало тут за войну? Недавно пробило заводскую трубу. Снаряд высверлил в кирпиче дыру, и труба светится насквозь.
Некоторые гражданские еще живут в Колпине и не хотят уезжать — даже старухи. Они какие-то совсем бесстрашные. Стоят у булочной в очереди и, когда начинается обстрел, убегают под ворота. Переждут и снова на место.
С одной разговорился вчера Петька, спросил ее, почему она не уезжает, ведь могут убить. Лет ей побольше пятидесяти, высокая, худая, в солдатском ватнике и козьем пуховом платке. «А ты не беспокойся, комсомолец, — ответила она, — мы тоже обстрелянные». Стала расспрашивать, где родился и вырос, и, когда услышала, что в Сталинабаде, воскликнула: «Вот ты из какого далека Ленинград- защищать пришел!» Про мать расспросила, про сестру Райку. «А мой сын в артиллерии», — поделилась она. Потом сказала, что если нужно простирнуть что или заштопать, пожалуйста, всегда можно к ней зайти — за кинотеатром второй дом...
Так запомнилась эта женщина, что маме и Райке о. ней написал.
Райка, Райка! Письма свои она шуточками пересыпает, а с карточек, которые шлет, всегда улыбается. Конечно, во всем этом — военная хитрость. Не так-то уж легко им приходится, но о трудном ни слова, ясно — не желает огорчать брата.
Совсем барышней стала Райка. Федя Магонов посмотрел карточки и сказал, что она очень красивая.
Одну фотографию выпросил и вчера послал Райке письмо.
А комбата все нет и нет...
В ожидании его Петька задремал.
— В двадцать ноль-ноль ротных ко мне, — сказал комбат, входя, и сам зажег свечу.
— Что же ты сегодня не спрашиваешь, когда наступление? — спросил комбат.
Но Петька уже догадался, что батальон пойдет в бой. Походка комбата, торопливые движения, какими он зажигал свечу, озабоченный взгляд, а главное — необычный, немного торжественный тон, каким приказал «борода» вызвать ротных, — все это подсказало Петьке, что боевая задача получена. Он почувствовал это в то же мгновение, когда вошел комбат, но старался не выказать своего возбуждения. Петьке казалось, что бывалый солдат должен быть сдержан в своих чувствах.
И все же, когда Слесаренко подтвердил догадку, Петька не смог скрыть волнения.
— Когда же, товарищ капитан? — спросил он. — А будет артиллерийский удар?
— Ты как из пулемета вопросами застрочил. И даже забыл, что время вызывать командиров рот.
— Разрешите идти.
Прижимаясь к стене, Петька сбежал по темной лестнице со сломанными перилами, ворвался в большой, тускло освещенный зал, опоясанный нарами, и, притопывая на ходу, устремился в угол, где за подвешенными на шпагате плащ-палатками помещался командир первой роты.
Эх, не любить нельзя Кочегара молодого, Парня хорошего такого... напевал Петька, проходя мимо нар и прищелкивая пальцами. Некоторые бойцы, уже расположившиеся на отдых, подымались со своих мест.
— Какие вести, Петька? Больно ты веселый...
— Да он всегда неунывающий.
— Как тот кочегар из песни!
Быстро обежав ротных командиров, Петька возвратился в штаб батальона. Воображение рисовало перед ним картины будущего боя. Петька хорошо знал, что многие бойцы батальона не обстреляны и истощены от недоедания, что и сам он едва ли сможет безостановочно пробежать в атаке двадцать или тридцать метров, но он чувствовал, что в бою появятся новые силы.
Наступление намечалось у противотанкового рва. Это был бой местного значения. Чтобы улучшить позиции наших подразделений, надо было захватить часть рва, протянувшегося на километры.
Бойцы получили белые маскировочные халаты и дополнительный запас патронов. Исходный рубеж для атаки батальон занимал ночью.
Комбат приказал Петьке добраться до проволочных заграждений, где лежали саперы, и передать им приказ: немедленно резать проходы. В густой тьме, едва смягчаемой отсветами снега и редкими вспышками ракет, полз Петька к знакомой лощинке, за которой начиналась «ничейная земля». Шепотом поздоровался он с саперами, передал им приказ. Сразу же раздалось щелканье кусачек, и Петьке показалось, что на той стороне слышат это щелканье. Но по-прежнему властвовала вокруг полудремота фронтовой ночи, лишь изредка потрескивали немецкие автоматы и раздавались короткие пулеметные очереди. Когда Петька возвращался в обратный путь, навстречу ему двигались роты. Связной с трудом разыскал комбата и пополз рядом с ним. Ощутив рядом локоть Слесаренко, Петька почувствовал, что на душе у него стало спокойнее.
Во мгле проступили очертания противотанкового рва, и роты, повинуясь условному сигналу ракет, поднялись с земли и побежали вперед, стреляя на ходу, кидая гранаты.
Над снежной поляной повисли гирлянды немецких ракет. Точно разбуженные их слепящим светом, ожили таившиеся вокруг вражеские минометы, артиллерийские орудия, пулеметы и начали повизгивать, лаять, хрипеть.
Петька в эти минуты находился в цепи первой роты, куда был послан комбатом. Люди задыхались от бега. Накануне они получили по двойной порции сухарей и банке свиной тушенки, но это не утолило голода и не восполнило сил, потерянных за месяцы недоедания. И все-таки бойцы бежали вперед, движимые и долгом, и родившейся в бою отвагой, и жаждой спасения от смерти, витавшей вокруг. А единственная возможность спасения была сейчас в том, чтобы миновать полосу огня и ворваться во вражеские траншеи.
Уже находясь в траншее, Петька услышал:
— «Бороду» убило!
— Врешь, неправда! — закричал Петька, вспрыгивая на бровку.
А через несколько минут, растолкав людей, находившихся возле комбата, Петька припал к телу Слесаренко.
— Товарищ комбат, товарищ комбат, очнитесь,— повторял Петька, и в голосе его слышались одновременно нотки требовательности и мольбы.
Слесаренко лежал недвижимый.
Петька положил его голову на свои колени и, наливая из фляги спирт на маленькую мерзлую шершавую ладонь, стал растирать лицо комбата.
Тяжелая мина с характерным присвистом шлепнулась рядом и вздыбила снежный фонтан. В то же мгновение Петька навалился телом на комбата, прикрывая его от осколков.
Когда Слесаренко очнулся после контузии, он увидел багровый круг солнца, подымающийся над горизонтом. Но тот солнечный диск был далеко. Перед глазами комбата алел другой багровый круг — пятно крови на маскировочном халате связного.
— Ты ведь ранен, Петька, — говорил комбат.— Ползи в тыл, я приказываю тебе туда ползти.
Санитары оттащили их обоих и направили в медсанбат. Слесаренко вскоре поднялся и ушел в роты, отбивавшие немецкую контратаку... У Петьки оказались три раны — на груди, правой руке и голове.
— Я в свой батальон уйду, к своему командиру, — говорил Петька, когда ему перевязали раны.
— Даже не думай об этом, — сказал военврач.— Мы тебя отправим в госпиталь.
Но, улучив удобную минуту, Петька удрал из медсанбата и прибрел в Колпино, где помещались тылы батальона. Он поселился в комнате батальонного повара — Николая Давыдкина.
Давыдкин устроил для Петьки в уголке нары. Пришел врач Репьев, и Петька попросил его: «Вытащите мне осколки, я боли не боюсь, только вытащите здесь, товарищ военврач...» Он расспрашивал Давыдкина и Репьева о бое, о своем командире.
— Я скоро уйду к ним, на передовую, — говорил Петька.
— Чудак, у тебя правая рука ранена, — заметил Давыдкин.
— А я левой буду стрелять.
Давыдкин по утрам мыл и вытирал ватой лицо Петьки, кормил его с ложки.
Когда батальон, сдав рубеж обороны другому подразделению, возвратился в Колпино, Петька уже понемногу ходил.
Судьба на время разлучила меня с дивизией, где служил Петька, но маленький связной всегда был в памяти.
Летом сорок третьего года я снова попал в 268-ю дивизию. Она стояла близ Колтушей. Одним из полков командовал Клюканов, знаменитый в ту пору герой Ленинградского фронта. Крылатым стало двустишие фронтового поэта: «Бей врага поганого, как бойцы Клюканова».
Теперь полк отдыхал вдали от передовой.
В растворенные окна дачного домика, который занимал Клюканов, солнце щедро бросало снопы лучей. В листве берез неистово бушевал птичий оркестр. Дымила полевая кухня. На траве лежали бойцы и неторопливо тянули песню.
— О, эти блокадные пареньки, — заговорил Клюканов. — Казались птенцами желторотыми, а как потом воевали. Петьку-то помните? Убит! Он в последнее время у комбата Кукореко был связным...
Скороговоркой, как это часто бывало на войне, упомянул Клюканов об этой, еще одной смерти и сразу же стал толковать о делах полка — о новых автоматах, присланных из Ленинграда, о том, что надо утвердить на завтра раскладку меню. И думалось — неужто очерствела в боях душа офицера, слывшего добрым отцом своих солдат? Или бесславно погиб связной Николай Хайминов, и успела уже улетучиться, как дымка, память о нем? Нет, трудно было этому поверить... И как бы подтверждая, что так быть не могло, Клюканов сказал:
— Этот Петька спать мне не дает. Честное слово, больно о нем вспоминать. Вот кажется, поднимется он среди тех бойцов, что лежат на поляне, пойдет вперед и крикнет звонко: «Боец Хайминов явился!»
Рядом у плиты возился истопник батальонной кухни — Семен Ефимович Яковлев, старый солдат с усталым и равнодушным, казалось, лицом, изрисованным сеткой морщин.
— Да, очень благородный был комсомолец, — вмешался старик в разговор. — Никогда ведь не выругается. Вот я старый человек, и то иногда в горячке черным словом пыльнешь. А он — никогда. Шутки, бывало, все у него полезные, песни разумные... Я в последнем бою вместе с Магоновым и Ченцовым на ту сторону Тосны продукты ночью подвозил. Сперва мы на бронекатере вместе с десантом шли. Разбило снарядами наш катер, пришлось спасаться вплавь. А потом все же на лодке подвезли хлеб и консервы бойцам. Сначала метров тридцать бечевой лодку тянули, а потом тихонько на веслах шли. Как хочешь, живым или мертвым путем, а доставить продукты надо. Там, на берегу, увидел я этого Петьку. Кругом огонь бушует, сабантуй настоящий, а он мне говорит: «Не робей, папаша, заробеешь — хуже». И верно ведь сказано.
Узнав, что Петька служил связным у старшего лейтенанта Кукореко, я решил разыскать знакомого комбата, который прославился в боях на тосненском «пятачке».
Близился вечер. Солнечный диск коснулся горизонта — и заискрились, окрасились в мягкие вечерние тона дома, деревья, поля, заросшие крапивой и лебедой.
Батальон Кукореко, расположившийся на окраине Колтушей, готовился к выходу на учения. Накануне его пополнили новыми бойцами.
Старший лейтенант Кукореко, сидя на пеньке, рассказывал солдатам о траншейном бое и одновременно, сам того не замечая, вычерчивал прутиком на песке замысловатую фигуру, словно доказывая какую-то теорему.
Когда занятие окончилось, бойцы развели костер и вслед за Кукореко все улеглись на землю, понимая, что сейчас можно держаться при командире непринужденней.
Я попросил Николая Никифоровича Кукореко рассказать о Петьке, и, когда он заговорил, вместе со мной комбата слушали все бойцы. Да и сам Кукореко — я заметил это — обращал свой рассказ прежде всего к молоденьким солдатам, недавно пришедшим в батальон.
— Что ж, — так начал Кукореко, — стал Хайминов у меня связным, и полюбил я его, как сына. Щупленький он такой, верткий, бедовый.
Приказаний ему на день, быть может, сто выпадало, а он при каждом руки вытянет по швам и слушает со вниманием. А когда уж отдал ему приказание, считай время не на минуты, а на секунды. Не было случая, чтобы он опоздал. С автоматом никогда не расставался и берег его действительно, как глаз во лбу. Если Петька где-нибудь побывал и докладывал мне, я ему верил, будто сам там был.
С большой любовью относился к Петьке и комиссар нашего батальона — Синодский. Они очень дружили. Нередко Синодский поручал Петьке рассказать новеньким солдатам о предстоящем бое, дивизионную газетку им почитать. Однажды Синодский сказал мне: «У тебя хороший связной». И я ответил: «Еще бы...»
Утром 17 августа 1942 года наш батальон отвели в Рыбацкое. Около двух суток жили тут наши бойцы и офицеры в удобных квартирах. В комнате, где поместились мы с Петькой, стояла настоящая кровать, и мы оба на ней спали. Он норовил лечь на пол, чтобы меня не стеснять, и доказывал, что ему так удобнее, но я разоблачил эту хитрость.
Чуть свет Петька уже на ногах — умытый, подпоясанный, подворотничок чистый, сапоги блестят. У некоторых связных в штабе вид был затрапезный. Николай их стыдил, и стали они ходить аккуратнее. Даже когда мы в бой шли, он держал в сумке гуталин и небольшую щетку.
Батальон получил боевую задачу — захватить мост через реку Тосну, достигнуть села Ивановского, перерезать дорогу и закрепиться. С группой офицеров направился я к переднему краю на рекогносцировку местности. Хайминову я велел в штабе остаться, так как группа была велика, да и не хотелось без надобности подвергать его опасности. Обернулся я и вижу — идет он позади. «Коля, — говорю ему, — возвращайся. Если наша группа будет меньше, противнику труднее будет ее обнаружить». Тогда Петька подошел к связному ротного командира и что-то ему шепнул. «О чем он тебе говорил?» — спросил я позже связного. — «За вами велел смотреть».
Ночью, когда я вернулся, Петька говорит:
— Пошлите меня в разведку.
— Зачем? — спрашиваю.
— Я «языка» притащу. Теперь «язык» очень нужен.
— На это разведчики есть, — ответил я ему.— А ты связной и должен свои обязанности выполнять.
Насупился он, молчит.
В доме, где помещался штаб, верандочка была. Там бойцы собирались, и слышал я однажды, как Петька толкует: «Перейдем Тосну, выполним задачу, орденоносцами станем». Он орден мечтал получить, по-хорошему мечтал, как всякий настоящий солдат.
Я отправился к бывшему Ленспиртстрою, где находились наши артиллеристы, и там мы договорились о сигналах взаимодействия артиллерии с пехотой. А назавтра, 18 августа 1942 года, в 21 час ноль-ноль батальон вышел на исходное положение в район деревни Новая.
Хайминов шел со мной. Метров за 40—50 позади рот мы оборудовали в землянке КП батальона, а впереди, у края обрыва — наблюдательный пункт. Оттуда хорошо просматривались в стереотрубу позиции противника. Петька отправлялся в роты с моими поручениями и, когда возвращался оттуда, рассказывал возбужденно: такая-то рота окапывается хорошо, а такая-то плохо, шума много...
В условленный час я передал ротам по радио приказ о начале наступления. Бойцы выдвинулись в район моста и вслед за огневым валом пошли в атаку. Оборона врага была прорвана. Петька шел с цепями первого эшелона. Прибежав на КП, он доложил мне обстановку. Была у меня с ротами и телефонная связь, и я принял решение, не мешкая, перенести КП батальона вперед, в одну из захваченных офицерских землянок. Там висели разглаженные френчи, шинели, стояла бутылка с водкой и сифон с газированной водой, валялись бритвенные приборы... Петька помогал мне оборудовать КП, осматривать траншеи, тянувшиеся вправо и влево... В руки его попали немецкие трофейные гранаты, и он роздал их бойцам... А шесть гранат умудрился поместить у себя за поясом. И вид у него стал особенно бравый.
Недолго задержались мы и на новом КП. Девятнадцатого вечером я вместе с Петькой переходил мост через Тосну. До половины моста мы двигались ползком. Петька появлялся то справа от меня, то сзади. «Ты не чуди, — кричу я ему, — себя береги!» Вторую половину моста мы преодолели броском. Петька кричал мне: «Ползите!» — но медлить нельзя было.
На этот раз командный пункт расположился между церковью села Ивановского и рекой Тосной. Землянка командного пункта была небольшая, с одним накатом бревен. Рядом с траншеей Петька вырыл нишу для меня и для себя. Быстро была развернута рация.
В этот день, 19 августа, мы окапывались, укрепляли оборону, и все было спокойно, если не считать того, что противник вел сильный артиллерийский и ружейно-пулеметный огонь. Да ведь на войне огонь — дело обычное. Неприятнее было другое: целые сутки мы ничего не ели, так как переправа находилась под шквальным огнем. Все же ночью, невзирая ни на какие опасности, бойцы тыла доставили к берегу продовольствие. Петька сбегал туда, принес буханку хлеба, мясные консервы, и мы с ним набросились на еду. В те минуты нам не было дела до снарядных разрывов, от которых так и дрожала землянка.
Траншея, которую мы занимали, шла ломаной линией вдоль берега реки Тосны у впадения ее в Неву. Впереди рос густой бурьян. Двадцатого, часа в два дня мы увидели сквозь эти заросли несколько вражеских танков, шедших со стороны села Ивановского. Все отчетливее слышалось гудение моторов. За танками двигалась пехота. Я приказал бронебойщикам бить по танкам в упор, а по рации вызвал огонь артиллерии. Да, жарко было тогда. Метров за тридцать от наших траншей поднялась в атаку вражеская пехота. Мы пустили в ход автоматы, пулеметы и вывели из строя много вражеских солдат. Но что говорить, мы и сами несли большие потери.
А назавтра противник наступал шесть раз. Фашисты проникли в траншею и устремились по ней. Батальон стоял на смерть. Из тел убитых врагов в траншее образовалась перемычка, и мы бросали через нее гранаты. Гитлеровцы, в свою очередь, забрасывали гранатами нас.
Петька находился возле меня. Он ловко подхватывал немецкие гранаты, готовые взорваться, и перекидывал их вперед. Одну из гранат он не успел перекинуть. И она взорвалась вблизи нас. «Ложитесь, товарищ комбат!» — крикнул мне Петька. В ту минуту все обошлось благополучно, оба мы остались невредимы. Я посылал Петьку на фланги выяснять обстановку, передавать приказания, и он понимал меня с полуслова. Только посмотришь на него, и он все понимает.
Шло время. Нас оставалось немного, человек семь — восемь. Стреляли раненые, а Петька вел огонь из трех автоматов один. Подобрал он их еще ночью и, разодрав нижнюю рубаху, хорошенько прочистил. Он расположил эти автоматы в разных точках. Высматривая, где показываются вражеские солдаты, Петька подбегал то к одному автомату, то к другому, и стрелял. Вот какой это был парень. Не просто смелый, не просто лихой, а и смекалистый, умный. В бою стал он совсем бесстрашным, даже озорным и держался бодро, хотя не спал несколько суток.
У нас кончались боеприпасы. Петька обошел убитых, принес мне патроны, и я смог выдать оставшимся в живых по десятку штук. «Я побежал!» — крикнул Петька, взяв свои патроны, и голос у него был такой же звонкий, как всегда. А через минуту, набивая у выступа траншеи диск, он был ранен в живот осколком гранаты. Когда я оказался возле Петьки, он только и успел сказать: «Меня убило, товарищ комбат, держитесь...»
Не стану говорить, что чувствовали мы тогда, все равно не выразить мне этого. Слез-то не было, в бою не плачут. Прикрыли мы тело Петьки плащ-палаткой и продолжали держать оборону, экономя каждый патрон. Позже к нам пробились свежие батальоны и накрепко заняли позиции у впадения Тосны В Неву.
А зимой вместе с другими дивизиями мы прорвали блокаду, и тогда легче стало дышать Ленинграду. Я думаю, не забудет Ленинград таких героев, как Николай Хайминов, наш Петька.
Слушая Кукореко, мы и не заметили, как густая тьма опустилась над Колтушами. Пламя солдатского костра полыхало в ночи.
Пронеслись годы...
В незабываемую весну пятьдесят седьмого года, когда праздновалось двухсотпятидесятилетие Ленинграда, у Московской Славянки открывался обелиск в честь защитников великого города.
Это было вблизи тех мест, где воевал Петька.
Под порывами ветра, разносившего медвяные запахи трав, колыхалось полотно, которое прикрывало высокий остроугольный камень.
Вокруг толпился народ. Иные из пришедших сюда бывших фронтовиков встретились впервые после тринадцати — четырнадцати лет разлуки. И нередко можно было видеть, как люди в волнении бросаются навстречу друг другу; как идут они группами по полю, разыскивая свой окоп, свою огневую позицию.
— Смотри, вон та развилка дорог, возле которой мы лежали, — говорит один.
— А тот овражек узнаешь? Тебя отсюда санитары вытаскивали, — замечает другой.
Бесконечно далекими казались времена, когда шли тут бои, далекими и необычайными.
Пестротканый ковер трав, пышные яблоньки, нежно-зеленые полосы озими украсили грозное некогда поле битвы. Ленты асфальтовых шоссе вились близ Московской Славянки, Колпина, Ям-Ижоры, Ивановского, испепеленных в войну и возрожденных из пепла. И рядом с бывшими фронтовиками стояли молодые девушки и парни, те, кому в войну было лишь по пяти — шести лет. Сильные, загорелые, были они одеты в рабочие костюмы, так как явились на открытие обелиска из цехов Ижорского завода — от мартеновских печей, прокатных станов, разметочных плит...
Когда опустилось полотно, прикрывавшее обелиск, перед взорами людей возник строгий и величественный памятник серого гранита с высеченной на нем надписью, прославляющей защитников Ленинграда. И тотчас же подножие памятника было засыпано цветами. Их принесли колпинские пионеры, дети и внуки знаменитых ижорских ополченцев.
Прозвучала команда, и мимо обелиска двинулись курсанты военных училищ. У них были молодые, мужественные, одухотворенные лица. В парадных, шитых золотом мундирах шли они, твердо печатая шаг.
И, вглядываясь в лица солдат, молодых рабочих и пионеров, я узнавал в них живого Петьку, незабвенного юношу-героя, всегда готового к подвигу во имя Родины.
| Предыдущая страница | Содержание | Следующая страница |